М.Е.: Евгений Аркадьевич, как часто к Вам приходят пациенты с ПТС ?
Каждый месяц.
М.Е.: С какой периодичностью Вы рекомендуете пациентам с ПТБ приходить на прием?
Пока у нас не регламентирован срок, когда после тромбоза мы говорим о посттромботической болезни, посттромботических изменениях. При этом, мы должны думать о последствиях тромбоза с момента его развития. Наверное не будет большой ошибкой, если мы начнем оценивать последствия тромбоза уже на сроке 3 мес. В этот период пациент должен получить базовую антикоагулянтную и компрессионную терапию и уже можно подвести какие-то итоги и сформулировать цели и задачи дальнейшего лечения. Поэтому уже на 3х мес я проведу оценку наличия и выраженности ПТБ по шкале Виллальты (ШВ) и зафиксирую это в документации. Вместе с тем, периодичность осмотра пациента на 1 году АКТ определяется в первую очередь режимом антикоагулянтной терапии, в большинстве случаев это от ТГВ 3 мес, 6 мес и 12 мес. Дальше по ситуации. Если удалось конечность привести в нужное состояние – вряд ли нужны осмотры чаще 1 раза в год. Правда я рекомендую пациентам «внеплановое» обращение в случае явных изменений – появление или усиление отека, изменение состояния кожи, появление варикозных вен и т.п.
М.Е.: Как будет сформулирован диагноз, если у пациента , после перенесенного ТГВ, 2 бала по шкале Villalta?
Примерно так (это пример моей записи по реальной пациентке):
Диагноз: состояние после спровоцированного большим временным фактором проксимального тромбоза глубоких вен правой нижней конечности (подколенная вена) от дд.мм.гггг. Полная реканализация/лизис тромба без формирования посттромботических изменений в вене и посттромботического синдрома (n баллов по шкале Виллальты).
М.Е.: Всем , и на каждом приеме ли Вы рассчитываете баллы по шкале ? И насколько это необходимо делать?
Протокол консультации – это фиксация текущего положения дел и средство коммуникации между специалистами. Нам нужно на что-то опираться в оценке наличия и выраженности ПТБ, нужна какая-то стандартизация и объективизация. Для этого в наших руках пока только один инструмент – ШВ. Да, этот инструмент не идеален, но это детали. Общую картину он дает. Еще считаю важным фиксировать измерение окружностей конечностей на нескольких уровнях. Важны и описательные данные – лучше указать на какие-то явные визуальные знаки (набухание вен, изменение кож и т.п.). Но оценка по ШВ, как мне кажется, нужна, и у пациентов после ТГВ провожу ее на контролях в обязательном порядке.
М.Е.: На каждом приеме Вы выполняете узи вен н/к пациентам с ПТБ ?
В первый год наблюдения – на каждом. Потом бывают ситуации, что УЗИ не требуется, но это скорее исключение, чем правило. То есть я не беру датчик в руки достаточно редко. При этом не должно быть исследования ради исследования, оно должно преследовать совершенно конкретные цели – это определяет что смотреть. Например, при ПТБ я слежу нет ли вовлечения в процесс ранее неизмененных сегментов (т.е. не было ли бессимптомного ретромбоза), оцениваю состояние поверхностных вен (не формируется ли их вторичная недостаточность), смотрю, не формируется ли надлобковый переток и т.п. Все это делается в «скрининговом» режиме и не занимает много времени, редко больше пяти минут.
М.Е.: Чем мы можем помочь пациенты с ПТС , кроме назначения веноактивных препаратов и подбора компрессионного трикотажа ?
− Вовлечением пациента в процесс контроля. Это не менее важно прописи назначений в заключении. Пациент должен понимать потенциальную тяжесть проблемы, понимать общие перспективы и их зависимость от его вовлеченности в процесс лечения. Очень помогает такое взаимодействие при оценке эффективности компрессии или в периоды снижения степени компрессии или отказа от нее. Я прошу пациентов завести дневник замеров окружностей голеней, поясняю что, когда и как долго нужно измерять – отличная основа для принятия решения.
− Разговорами. У наших пациентов обычно много вопросов, сомнений, страхов, подхваченных где-то заблуждений и стереотипов. Нередко пациенты сильно себя в чем-то ограничивают, отказываются от любимых и желанных активностей даже не отдавая себе в этом отчет. Все вместе это может совершенно расстроить жизнь человека, наша задача, помимо снижения риска повтора тромбоза и риска развития ПТБ – чтобы пациент жил полноценной жизнью. Надо разговаривать с пациентами, но не о чем попало, конечно. Это должна быть совершенно определенно направленная профессиональная «коммуникация» с нашей стороны – нужно выводить пациента на осознание возникающих у него в связи с болезнью проблем, рассказ о них, обсуждение.
− Подключением специалистов по диагностике и устранению проксимальных венозных обструкций там, где это требуется.
М.Е.: Если на фоне лечения , количество баллов по шкале Villalta, снизилось с 8 до 3. Мы снимаем диагноз ПТС с пациента ?
Этот вопрос мне напомнил мой регулярно повторяющийся спор с одним другом и коллегой. Он против использования термина «посттромботический синдром», считает, что это болезнь. Я склонен разделять эти понятия. С моей точки зрения даже если посттромботическая болезнь не исчезнет никогда, может не быть ее клинических проявлений, может не быть посттромботического синдрома. Если взять за основу пример выше, я могу написать:
Состояние после неспровоцированного ТГВ от гггг., посттромботическая окклюзия подколенной и бедренной вены без формирования посттромботического синдрома (2 балла по шкале Виллальты).
Мне не очень нравится разграничение на уровне 5 баллов. Но, возможно, в разрабатываемых КР по ПТБ шкалу Виллальты примут как диагностический и классификационный тест в ее оригинальном виде, и мы должны будем при <5 баллах отмечать отсутствие ПТС. Но никто нам не запрещает указать на то, что при формальном отсутствии ПТС конечность пациента – не в идеальном состоянии, что клинические проявления есть. Так что я призываю прописывать значения по шкале в протоколе консультации и даже выносить в диагноз.
М.Е.: Что делать, если заболевание прогрессирует , несмотря на консервативные методы лечения?
Лечить дальше. Думать, разбираться в причинах, взаимодействовать с пациентом (возможно, причина прогрессирования – недооценка им важности назначений и их неточное выполнение), корректировать лечение, советоваться с коллегами.
М.Е.: Евгенйи Аркадьевич, больше спасибо за интервью. Будем рады Вас видеть в новых проектах. Уважаемые коллеги, мы уверены, что ваш интерес к первым лицам будет только расти, а они обещали отвечать честно и без купюр. До встречи.


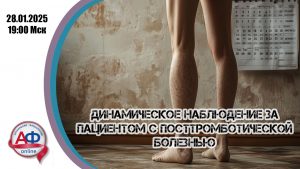

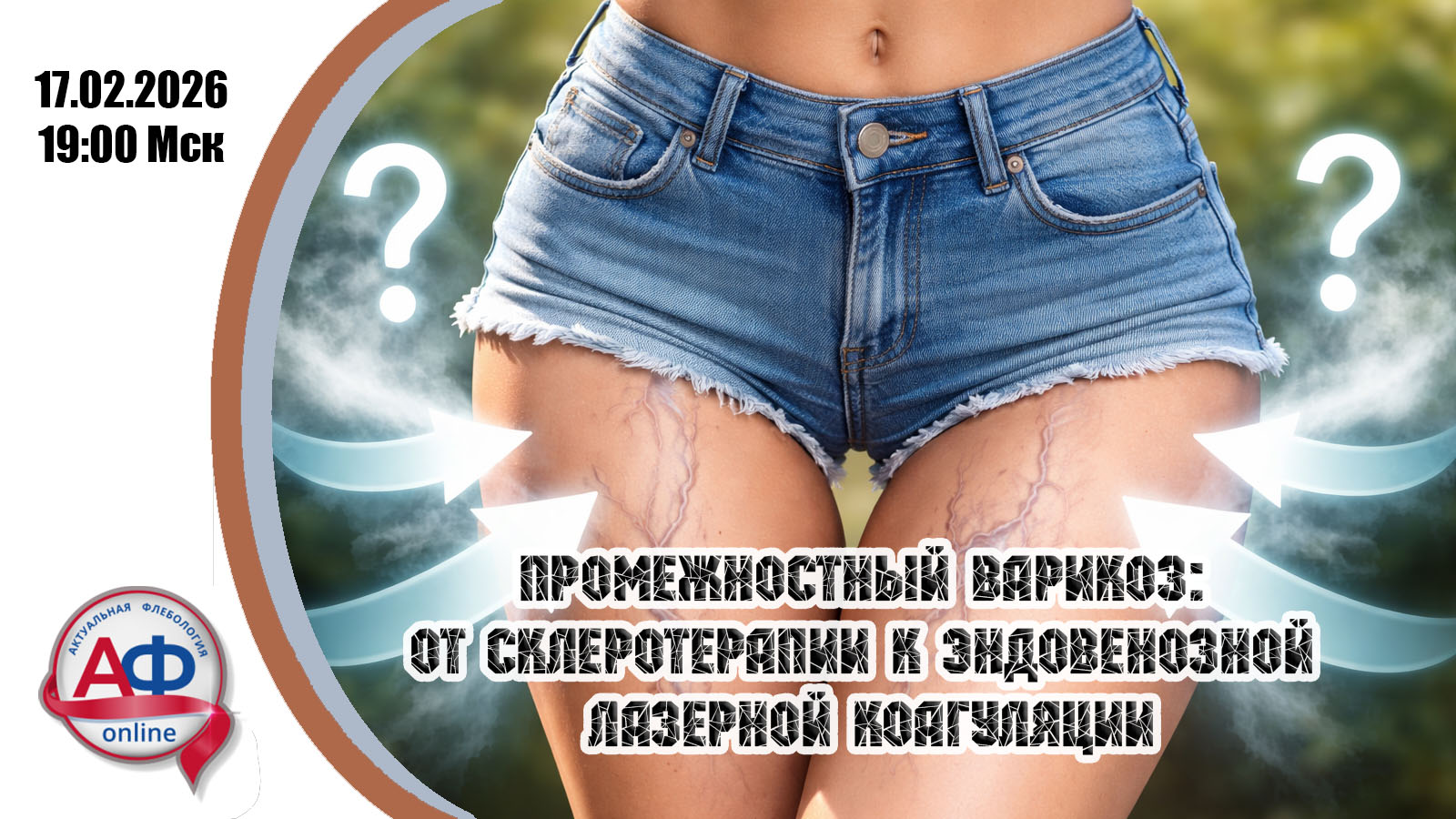






Задайте свой вопрос